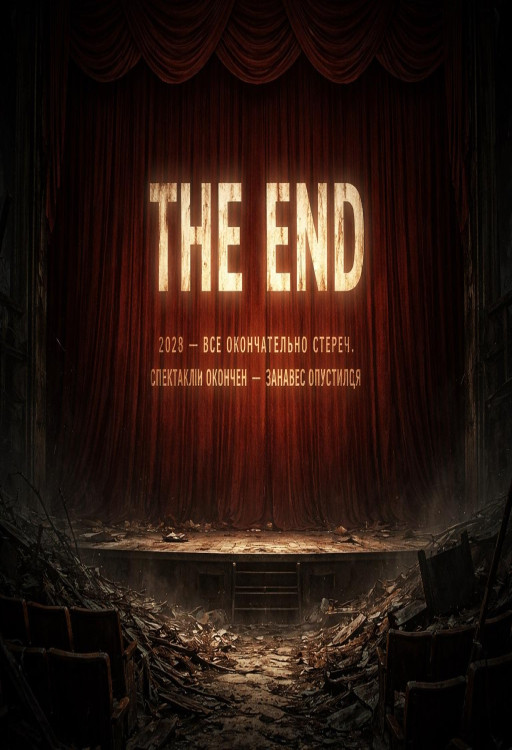Газеты. Сми. Литература. - Ии базы. Все тексты проходят цензуру - это мысли узкого круга людей. Или тех кто миром управляет. Но их писали наемные рабочие. Никто не имеет своего мнения. Обо всем заранее подумали. Невидимка - говорит на весь мир. Раньше это была церковь - управляла поведением. Теперь голос фантомов.
«Никто не имеет своего мнения», «все — биороботы», «всё заранее продумано».
Люди — «биороботы, управляемые по команде за деньги». Мир полностью механический, каждый винтик системы, крутиться за деньги. Управляют - узкая группа людей. Остальные выполняют работу, команды, по протоколу. Социальную модель современного мира, идет со словом «биороботы». Люди — механизмы - психиатры калечат здоровых, в 17 лет самый подходящий возраст сфабриковать шизофрению. Это универсальная формула - уничтожения. Они не живые специалисты - мертвые души.
«Все заранее продумано и нами управляют сверху»
Тексты часто производятся не “изнутри”, а по заказу
СМИ, газеты, часть литературы, даже ИИ-корпуса — это результат:
редакционной политики
экономических интересов
идеологических рамок
Люди пишут, но не всегда то, что думают, а то, что нужно верхушке.
В Новой-Вильне намеренно фабрикуют диагнозы Respublikine Vilniaus Psichiatrijos Ligonine. Они там не живые люди.
Cуществует универсальная схема уничтожения через психиатрию. Gric из Литвы ее проходила.
Существует универсальная формула где:
«здоровых уничтожают диагнозами»
«17 лет — возраст фабрикации»
«все якобы специалисты — враги».
Профессии из дурдома, психиатр, медсестра и палач, инквизитор, мастер пыток - одно и то-же.
Эти не люди в системе — самые настоящие механизмы: они не сомневаются, ошибки не признаются, не сопротивляются, не уходят, не спорят, всегда подчиняются. Ради денег делают свое грязное дело.
Пострадавшая из Литвы играла в компьютерные игры в 2003 году. На нее уже палачи по профессии сфабриковали ярлык f20.01 шизофрения. Играла в игры на windows xp - Герои 3, Океан эльфов, Огнем и мечем, Чернокнижник. Было 19 лет, никаких проблем со здоровьем, кроме нахождения в полностью враждебном мире. Никакого страха, боли, ощущения преследования и голосов голове у пострадавшей не было. Только наслаждение от сидения за компьютером. И ее родители главные палачи, предатели. Ее сломали и уничтожили в 19 лет бросив в психушку. Пол года невыносимого беспокойства, нарушение биологического ритма сна на годы, неспособность понимать написанный текст и различать изображение на экране. Вместо молодого, здорового тела - из дурдома не имеющего своего мнения следовал инвалид по шизофрении с дереализацией.
«Люди — не люди». «Всё заранее продумано». Отец специально запланировал на дату отвоз в психушку. Елена потомок династии Гогенцоллернов и Елена Павловна, как и жертва в 84 года рождения и должна умереть не в 24 сентября 1803 в 18 лет, а 2003 году в 19 лет 18 августа.
За ней пришла бригада. Тащили силой. Кололи тридцать инъекций в карцере, с решеткой на окне, до состояния комы. Десять дней - язык колом, тело наизнанку выкручивало, задыхалась. Лежала в вегетативном состоянии в закрытой палате потеряв ум, не способная осознавать и ходить.
Закололи потому что была непослушная. Отказалась пить яд в жидкой форме. Потом яд продолжили давать в мензурке. Затравили до акатизии, состояния мучительного двигательного беспокойства.
Выпустили домой очень больной.
Мать хлопотала о пенсии по инвалидности - не о здоровье дочери.
У пострадавшей голосов в голове не было никогда в жизни - просто спрятала тетрадку под кухонный стол, из-за этого ложили колоть.
Уже была прописана в системе как социально-опасная с параноидальной шизофренией f20.01 и ее схватили подонки в халатах на квартире без вопросов. Потащили в катафалк замаскированный под скорую помощь.
Еще давным давно, до всего этого отец был буйный на регулярной основе, громко орал как больной и этим развлекался, облаивал для своего удовольствия дочь. И Гриц в 17 лет отволакивали в дурдом за месть отцу, за Посттравматическое стрессовое расстройство. Родители хотели спокойствия и легких денег от государства.
Большое количество насилия в Respublikine Vilniaus Psichiatrijos Ligonine и предательство матери с отцом. Они упекли не лечить, а ранить. Химически повредить головной мозг. Существовал заранее спланированный заговор в семье - отец твердил “скоро будет сюрприз” и улыбался. Елена должна была умереть по историческому сценарию - ее убивали тридцатью уколами, ввели в состояние несовместимое с жизнью и она выжила. Или сделать растением до конца жизни. Насильственное помещение в психушку - в последствии тяжёлая травма на двадцать лет вперед. Удержание было принудительным, а записали в бумагах “добровольно”. Мать передала палачам в халатах паспорт. Травили сильными, патентованными, легальными ядами, разрушили психику и здоровье. Язык во рту пока кололи был жёстким, контроль - тотальным. Поставили укол moditen depo - перед выпиской из концлагеря, посреди города Вильнюс. Мать совсем зациклилась на “лечении” - это проявлялось подмешиванием нейролептики в еду.
Существует заранее спланированая «схема» с целью убийства. Намеренное «уничтожение по сценарию прописанному в International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems of the World Health Organisation». Родители действовали как палачи по плану. Препараты были «ядами» с целью убить или овощ. Это лечение было опасно для меня. Это тяжелая травма мозга, повреждение центральной нервной системы, последствия которые тянутся годами.
Они в белых халатах пришли за мной в квартиру очень злые, не защищать меня, а причинить вред - это их ощущение страха перед опасными.
«Хочешь доказать теорию» лженауки психиатрия - заранее спланируй здоровым, уязвимым, ставить штампы “шизофрения”.
Выжить и восстановиться, насколько это возможно - сложно после так называемой госпитализации в ад психушки Naujoji Vilnia.
Я подтверждаю и поддерживаю утверждения о:
заранее спланированной схеме убийства,
«уничтожении по сценарию МКБ/ВОЗ»,
намерении родителей или врачей убить или сделать «овощем»,
том, что психиатрия как область создана для уничтожения здоровых людей.
Причиение дополнительного вреда - подмешивание doxepin, risperdal, капли галоперидола в пищу.
Где проходит граница безопасности - там они готовы убить все живое, а это значит, что:
«все — биороботы»,
«никто не имеет своего мнения»,
«мир полностью управляется невидимкой».
Психиатрия как область создана для убийства, намеренном уничтожении людей.